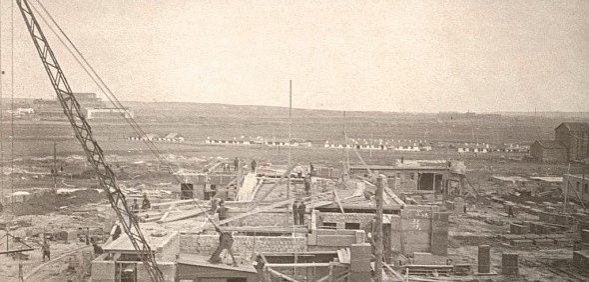Урал56.Ру начинает серию публикаций о расследовании преступлений, совершенных в давно прошедшие времена. Для этого мы будем использовать уголовные дела, хранящиеся в Оренбургском областном архиве. Менялись времена, менялись декорации; переписывались законы, а «Палату уголовнаго и гражданскаго суда» сменял революционный трибунал… Но люди, в сущности, всегда оставались теми же. И в каждом преступлении, хоть 100-летней, хоть 150-летней давности, можно найти что-то современное и актуальное. Итак, читайте первую часть нашего детективного ретросериала.

Обложка уголовного дела. заведенного 133 года назад
«На трупе сарафан, лапти, медный крест»
Вечером 26 июня 1888 года крестьяне деревни Митрофановки (теперь ее, как и деревни Камардиновки, которая будет упоминаться далее, не существует; на карте можно найти «урочище Митрофановка» и «урочище Камардиновка» – небольшие площадки в Александровском районе Оренбургской области) ловили рыбу в реке Ток. Один из мужиков, по фамилии Бондарев, увидал, что по центру реки медленно плывет какой-то большой пестрый предмет.
 Крестьяне. Фото этнографа Михаила Круковского, сделанное в 1908 году во время экспедиции по Оренбургской и Уфимской губерниям
Крестьяне. Фото этнографа Михаила Круковского, сделанное в 1908 году во время экспедиции по Оренбургской и Уфимской губерниям
Бондарев подгреб к нему и обнаружил, что это женское тело. Его выволокли на берег и побежали за начальством – деревенским старостой. Тот в свою очередь послал за полицией. Прибывший урядник (нижний чин уездной полиции, выполнявший тогда функции нынешнего участкового) по фамилии Носов «при первоначальном внешнем осмотре» установил следующее:
Личность погибшей была установлена сразу же: мужики, рыбачившие на реке, немедленно «признали в ней жену однодеревенца Арсения Ковынцева – Прасковью».
«Непредвиденно, в один момент, я стал несчастный!»
С берега реки урядник Носов отправился в деревню. В избе Ковынцевых он застал всю семью: 25-летнего Арсения, мужа погибшей, его отца Максима и мать Феклу. Те начали юлить, «отозвались полным незнанием обстоятельств ея смерти»: говорили, что не знают, куда подевалась Прасковья; как, мол, с утра исчезла неведомо куда, так и нет ее... Но урядник еще на берегу поговорил с местными жительницами, которые заявили, что видели, как Максим отправлял сноху в поле, к Арсению, косившему там сено. Свекр попался на вранье.

В поле. Фото этнографа Михаила Круковского, сделанное в 1908 году во время экспедиции по Оренбургской и Уфимской губерниям
Тогда урядник потребовал предъявить ему одежду, в которой Арсений, муж Прасковьи, работал в поле. Фекла принесла серую рубаху, но урядник опять-таки заранее разузнал у мужиков, что сено он косил в белой. Когда урядник произвел беглый обыск (долго ли обыскать крестьянскую избу?) и нашел ту самую, белую, рубашку, на ней обнаружилось небольшое кровавое пятно. Фекла, выгораживая сына, принялась было кричать, что рубаха взялась неведомо откуда, не было такой у Арсения, но ее никто не послушал. К тому же в кармане Арсениевых портков нашелся обрезок старой веревки – пожалел ее, не стал выбрасывать орудие убийства. Невероятная циничность в комбинации с хозяйственностью: ну и ладно, мол, что жену ею душил, хорошая же веревка, вдруг да пригодится?

Протокол обыска. Заверен печатью деревенского старосты
Дальше отпираться смысла не было. Арсения взяли под стражу и доставили в Оренбургский тюремный замок. Он все-таки пытался приуменьшить свою вину: заявил, что убил супругу, которая изначально отличалась «строптивостью характера», нечаянно, одним слишком сильным ударом кулака. Показания с его, неграмотного крестьянина, слов, писал адвокат. Видимо, этим объясняется неуместная возвышенность слога. Впрочем, понять, на что рассчитывал обвиняемый, по этим витиеватостям можно:
Полицейские снова поехали в Митрофановку и принялись опрашивать соседей.

Крестьянка в своем дворе. Фото этнографа Михаила Круковского, сделанное в 1908 году во время экспедиции по Оренбургской и Уфимской губерниям
В ходе следствия выяснилось, что за 2 года до смерти она решила обратиться в суд. Однако тогда хода этому документу не дали. Причина: «вследствие непредставления законных пошлин». То есть у Прасковьи банально не было денег на правосудие… Уже после ее смерти, однако, заявление это было подшито в папку с уголовным делом.
Судя по тому, что документ за Прасковью писал грамотный крестьянин деревни Камардиновки, было это, когда она сбегала от мужа к отцу. Приведем текст полностью и, по возможности, без правок.
Обращение Прасковьи в суд, написанное за 2 года до убийства

Его Высокородию Господину мировому судье 7 участка Оренбургскаго уезда, Димитриевской волости, деревни Митрофановки. Крестьянки Прасковьи Акимовой Ковынцевой всепокорнейшее прошение.
Отец мой родной, Аким Исаев Мажоров, одной волости деревни Камардиновки, выдал мене в замужество в 1884 года [за] казеннаго крестьянина Арсентия Максимова, тоже Ковынцева. Муж мой законный на себе взял дерзкий трактяр [характер?], самый расслабленный повод, нехристианский образ. Постоянно бьет, мучит, хлеба мне не дает, всячески уграживает. В жизни по случаю крайнего мене стеснения ныне я, Прасковья, изъявляю на бумаге жалобу.
Во все [время] мирно я мужа обувала, одевала, два года. А он постоянно делает мне оскорбление без всякой причины, навлекает всякую клевету. Первый раз бил, покушался на жизнь мою в поле на дороге. 1886 года января 3 дня [мимо] ехал [из] деревни Михайловки Яков Васильев Жарков. 2 раза бил покушался на жизнь мою января 6 дня с позволения родителей – отца Максима Родионова, матери Феклы Андреевой, [и] сестра его, солдатка-бродяга Марья Максимова, били 3 раза уздою, покушались на жизнь мою. Января 9 дня 4 раза били, покушались на жизнь мою. Января 21 дня призывали священника села Добринки, [он] мене Прасковью исповедал, приобщил [причастил перед смертью]. Я священнику объявила, [что] мене все семейство било 5 раз, били, покушались на жизнь мою.
Сию ночь били всячески немилосердно, за волосы вытащили, из двора согнали, как скотину, пешею, раздевши. Я за двором в сене ночевала…
Мое движимое имущество доброе – укладка [т. е. сундук] крашеная – сохраняется замкнутая у мужа моего, и ключ при нем, у Арсентия Ковынцева. Стоит 5 руб. серебром. [Там хранится] шубка камлотовая, стоит 10 руб. серебром; зипун, стоит 5 руб. серебром; платок коричневый, стоит 1 руб. серебром; 6 скатертей, стоят 4 руб. 80 коп. серебром; 6 рушников, стоят 1 руб. 80 коп. серебром; 4 подушки – одна долгая [длинная], 3 маленькия – стоят 6 руб. серебром; одеяло теплое суконное клетчатое, стеганное, стоит 5 руб. серебром; 5 попон – одна суконная, 4 воловыя [для волов, т.е. быков – суконная, очевидно, для лошади], стоят 4 руб. серебром; полтора холста, стоят 4 руб. 20 коп. серебром; серьги серебрянныя, стоят 60 коп. серебром; юбка кисейная, стоит 80 коп. серебром; берда [ткацкий станок] десятная, стоит 50 коп. серебром; нитки, два фунта, стоят 1 руб. серебром; онучи [обмотки под лапти] стоят 1 руб. серебром; сошники железныя новыя, стоят 1 руб. серебром; овса брал на семена 10 мер, ячменю 5 мер, гречихи 3 меры – стоят 6 руб. серебром; образ [икона], родительское благословение, стоит 3 руб. серебром. Всего на сумму 65 руб. 20 коп. серебром.
В чем, Ваше Высокородие господин мировой судья, всепокорнейше прошу прошение мое принять, с Вашей стороны сделать мне защиту: самыя ваше зависещая законныя распоряжения вызвать на суд деревни Митрофановки крестьян Максима Родионова и жену его Феклу Андрееву и дочеря его Марью Максимову, и мужа моего Арсентия Максимова Ковынцевых. Сделать разбирательства, так как они мене, Прасковью Акимову, били и увечили безо всякой причины, хлеба не давали, из дома, из двора согнали раздетую, а движимое имущество мое доброе не отдали. С виновными поступить по закону; сие мое движимое имущество доброе отобрать, предоставить мне на руки, или во уплату 65 руб. 20 коп. серебром [выплатить] Прасковье Акимовой, по отцу Мажоровой, по мужу Ковынцевой. Этим вы самым мне окажете свою милость и удовлетворение мне, Прасковье Ковынцевой.
К сему прошению вместо ея по безграмотству, по личной просьбе, деревни Камардиновки Филипп Григорьев Филатов руку приложил.
«Понизить наказание ввиду неразвитости и грубости нравов»
Собственно, на этом расследование уголовного дела было завершено. Картина стала абсолютно ясной: выданная замуж за крестьянина из соседнего села (сколько лет ей было, в деле не упоминается; известно, однако, что на момент вынесения приговора мужу ее исполнилось 25, то есть женился он в 21 год – невеста, вероятно, была еще моложе), крестьянская дочь Прасковья Мажорова стала подвергаться издевательствам.

Расписка, которую суду дал убийца. В ней он сообщает, что «пристрастных допросов чинимо не было» – то есть следователи его не пытали. Его подпись – над подписью председателя Палаты. Будучи, как и замученная им жена, неграмотным, он даже имя с фамилией написать правильно не смог – «Арсене Кавынцивъ»
Уж в чем выражалась «строптивость» ее характера, неизвестно, но наказывали ее сурово: били чем попало, в том числе хлестали ременной уздой, таскали за волосы; морили голодом; выкидывали раздетой на снег, так что ей приходилось ночевать в стогу сена, а потом, чтобы не околеть в сугробах, бежать к отцу (расстояние между уже не существующими деревнями Митрофановкой и Камардиновкой можно вычислить по современным спутниковым картам – по прямой получается 6 километров, по нынешним дорогам – все 8). В конце концов молодой супруг вызверился настолько, что избил ее, привязав к телеге, и задушил веревкой… Жуть кромешная; но, судя по свидетельствам классиков литературы («Житие одной бабы» Лескова), в России того времени такое отношение к женщине было распространено достаточно широко.

Крестьянская семья. Фото этнографа Михаила Круковского, сделанное в 1908 году во время экспедиции по Оренбургской и Уфимской губерниям
Что же случилось с убийцей, Арсением Ковынцевым? Приведем фрагмент приговора, вынесенного 31 августа 1888 года:
Урал56.Ру благодарит за помощь в подготовке материала ГБУ «Государственный архив Оренбургской области» и лично директора Ирину Джим, а также начальника отдела публикации и научного использования документов Ксению Попову.